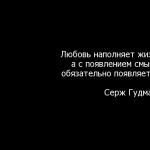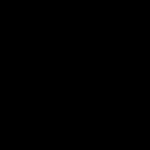Война королей. Кукольный театр. Из серии «Петрушка». Оболенская Ю. Л. Переводческая мысль в Испании ХII – ХVIII веков Оболенская юлия леонидовна
Текст Ю.Л. Оболенской, рис. худ. Ю.Л. Оболенской и К.В. Кандаурова, факсимиле рис. и текста исп. худ. В. Несслер, печ. лит. Р. Бахман, Москва. М. – Пг., издание Театрального отдела Комиссариата народного просвещения, 1918. 36 с. с ил. Цена 6 рублей. В издательской хромолитографированной обложке. Oblong. 25х34 см. Очень высоко ценится у коллекционеров русской детской литографированной книги. Чрезвычайная редкость!
Октябрьская революция оказала решающее воздействие на судьбы искусства. Она изменила его идейное содержание, формы и методы художественного воздействия, наконец, его аудиторию и заказчика. Отныне искусство активно включается в общенародную борьбу за переустройство мира. И всё же резкого разрыва с художественным наследием, отрицания всего предшествовавшего опыта развития отечественного искусства не произошло, потому что у многих активных деятелей той революционной эпохи очень крепким было чувство преемственной связи с прогрессивными демократическими устремлениями русской общественной мысли XIX века, а также твердое убеждение, что настало наконец время осуществления лучших чаяний человечества. В первые годы советского режима первостепенное значение приобрели боевые, оперативные формы массового агитационного искусства - политический плакат и газетно-журнальная графика, ораторская поэзия и героический театр, массовые театрализованные действа и народные праздничные шествия, росписи агитпоездов и оформление улиц в дни революционных празднеств. В таких необычных формах агитационно-массового искусства прежде всего проявлялся живой и непосредственный отклик на события революции, здесь, по словам Анатолия Луначарского, "несомненно произошло слияние молодых творческих исканий и исканий толпы". Важную роль сыграло здесь такое основополагающее начинание новой власти, как план монументальной пропаганды, выдвинутый Ильичем в апреле 1918 года. Излагая Луначарскому этот свой план, Ленин напомнил ему трактат одного из первых социалистов-утопистов эпохи Возрождения Томмазо Кампанеллы "Государство Солнца". В нем описан идеальный город, где все стены расписаны фресками, которые
"служат для молодёжи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство - словом, участвуют в деле образования и воспитания новых поколений... Мне кажется, заметил Ильич, - что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же. Я назвал бы это монументальной пропагандой".

Пьеса Вл. Маяковского. 1919.
Эскиз декорации.

В.В. Маяковский. "Мистерия-Буфф".
Пьеса Вл. Маяковского. 1919.
Эскиз костюмов.
Важное значение придавалось оформлению различного вида театрализованных зрелищ: балаганам с их пестрой и шумной программой, передвижным шапито, устраивающим раешники с клоунами, скоморохами, балагурами, шутами, жонглерами, танцорами: все должны жить новой жизнью, все должны вовлечь зрителей, которые должны принимать участие в том, что творится на подмостках этих балаганов. Значительную роль в смысле оживления революционных праздников и придания им карнавального оттенка могли сыграть карусели; их предлагалось проводить в виде "цеховой" карусели. В плане художественного сектора Наркомпроса мы видим также проект проведения политической карусели на основе пантомимы, написанной Иваном Рукавишниковым совместно с Н.М. Фореггером. Такая широкая программа различного вида театрализованных зрелищ не осталась лишь в проектах, а получила в дальнейшем многообразное воплощение в художественной практике народных празднеств. Она помогала убедительно раскрывать революционные идеи в живых конкретных образах, вносила в праздничный ритуал убедительную наглядность сценического действа.
После Октябрьской Социалистической революции 1917 года в России главным направлением развития драматургии театра кукол стали агитпьесы (театральные агитки) - симбиоз обычной уличной «комедии о Петрушке» с сатирическими фигурами политического карнавала тех лет. Петрушка, сменивший свой дурацкий колпак на будёновку, бил своей дубинкой, колол штыком «многоголовую гидру империализма» - Юденича, Деникина, Колчака, Врангеля, Антанту и в целом «Мировой империализм» и т.д. Кровавой ярости и беспредела новых окаянных дней России этот сатирический театр социальных масок вполне соответствовал. В воздухе так и витала идея создания профессионального театра кукол, как места, где может воплотиться новая русская профессиональная драматургия от революции. Появились поэты, писатели, художники, режиссеры, художественные, литературные кружки, изучающие возможности кукольного театра, ставящие перед собой задачу создания некой особой кукольной пьесы для особого кукольного спектакля. Появлению большого количества агитационных кукольных пьес во многом способствовала возникшая система государственного заказа от агитпропа. Пьесы писали для сотен появившихся самодеятельных и профессиональных агитационных театров кукол, нуждавшихся в принципиально новом репертуаре, который должен был соответствовать новой советской идеологии. Среди первых таких пьес была «Война карточных королей» Юлии Оболенской и К. Кандаурова, написанная для организованной в Москве (при Театральном отделе Народного комиссариата просвещения) Студии «Петрушка».
Студия создавалась, как драматургическая лаборатория агитационного кукольного театра. Газеты того времени писали, что «театр кукол является зрелищем народного гнева и сатиры, воплощением революционной мысли». «Война карточных королей» была приурочена к первому юбилею Октября, а ее премьера состоялась в Москве 7 ноября 1918 г. при открытии артистического клуба «Красный петух». Впоследствии Студия выпускала наборы кукол к этой пьесе, которые вместе с текстом высылались в любительские кукольные театры. Персонажами пьесы были карточные короли, которых свергали «двойки», «тройки» и «шестерки». Главный герой пьесы - Петрушка - вел карточную игру - комментировал действие, призывал младшие карты на борьбу с карточными королями. «Свои козыри были на руках, а остались мы в дураках», - восклицали в финале побежденные короли. Как не вспомнить здесь стихотворение Константина Бальмонта «Кукольный театр» (1903):
«Я в кукольном театре. Предо мной,
Как тени от качающихся веток,
Исполненные прелестью двойной,
Меняются толпы марионеток.
Их каждый взгляд расчитанно-правдив,
Их каждый шаг правдоподобно-меток.
Чувствительность проворством заменив,
Они полны немого обаянья,
Их modus operandi прозорлив.
Понявши все изящество молчанья,
Они играют в жизнь, в мечту, в любовь,
Без воплей, без стихов и без вещанья…
Но что всего важнее, как черта,
Достойная быть правилом навеки,
Вся цель их действий только красота…».
Ю. Л. Оболенская. Коктебель. 1913. Фотография.
Короткая справка: Оболенская, Юлия Леонидовна(1889 – 1945, Москва) - русская художница-живописец, книжный иллюстратор. Близкая знакомая М.А. Волошина (с 1913), состоявшая с ним в многолетней переписке, адресат его стихотворения «Dmetrius-Imperator» (1917), автор мемуарного очерка о поэте, соучастница росписи коктебельского кафе «Бубны», где декоративное оформление А. Лентулова было дополнено злободневными «фресками» А.Н. Толстого, М. Волошина и Ю. Оболенской. Тётка «последнего князя кинематографа», киноактёра, режиссёра, звукооператора Л.Л. Оболенского (в монашестве – инока Иннокентия). Училась в школе Званцевой в Петербурге («Школа Бакста и Добужинского»), где в числе преподавателей были Л. Бакст, М. Добужинский, К. Петров-Водкин и где соучениками Оболенской некоторое время были А.Н. Толстой, вскоре оставивший школу по совету Бакста, и С.И. Дымшиц, в 1907 – 1914 – гражданская жена А.Н. Толстого.
Ю. Л. Оболенская. Автопортрет с окнами. 1914.
Фоторепродукция. ГТГ
Ю.Л. Оболенская. Письмо (Январь). 1915.
Фоторепродукция. ГТГ
Ю.Л. Оболенская. Игрушки в пейзаже (Львы). 1915.
Холст, масло. Частное собрание.
В 1912 году Ю. Оболенская становится экспонентом объединения «Мир Искусства», в 1917 – действительным членом Свободных мастерских, в 1923 – членом-учредителем общества «Жар-Цвет». В 1926 – 1928 принимает участие в выставках Ассоциации художников-графиков при московском Доме печати. В 1930-е работает преподавателем рисунка и живописи в Доме народного творчества им. Н.К. Крупской (г. Москва), сотрудничает с Госиздатом, возможно, что эпизодически выполняет оформительские заказы Музея нового западного искусства (существовал в Москве с 1919 по 1948).
К. В. Кандауров. 1900е. Фотография из архива К. А. Кандауровой
Ю. Л. Оболенская. Портрет К. В. Кандаурова. 1925.
Холст, масло.
Короткая спрака: Кандауров, Константин Васильевич(1865-1930) (Москва) - живописец, график, художник театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства. Из дворянской семьи. Учился в МУЖВЗ (1880–1885, не окончил). Жил в Москве. Был женат на художнице Ю. Л. Оболенской, часто работал в соавторстве с ней. Писал пейзажи, натюрморты, жанровые композиции; много работал в технике акварели. Автор живописных произведений: «Лето. Пикник» (1917), «Степной Крым. Шейх-Мамай» (1917), «Персидский натюрморт» (1918), «Куклы кукольного театра» (1919), «Астры» (1924) и других. Занимался деревянной скульптурой: «Карусель», «У балагана» (обе - 1916). В 1887–1897 - художник-исполнитель Большого театра. В 1910-х - художник-осветитель Малого театра, в 1920–1926 - художник Малого театра. Оформлял спектакли: «Война карточных королей» в Московском агитационном театре кукол (1918, совместно с Ю. Л. Оболенской; по мотивам издан альбом цветных литографий - «Война королей», М., 1918); «Снегурочка» А. Н. Островского в Московском театре кооперативов (1923, совместно с Ю. Л. Оболенской). Был дружен со многими известными представителями художественной жизни Москвы и Петербурга первой трети ХХ века - А.Н. Толстым, С.И. Дымшиц-Толстой, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинским, А.Я. Головиным, К. С. Петровым-Водкиным, Н.Н. Сапуновым, С.Ю. Судейкиным, П.И. Нерадовским и другими. Неоднократно бывал в Крыму, где гостил у М.А. Волошина и К Ф. Богаевского. Занимался организацией художественных выставок: «Мира искусства» в Москве (1910-е), картин В. Д. Поленова цикла «Из жизни Христа» в пользу раненных Первой мировой войны (1914), «Художники Москвы - жертвам войны» (1914), картин и скульптуры русских художников, устроенной в пользу пострадавших от войны бельгийцев (1915), авангардной выставки «1915 год» (1915) в Москве; «Война и печать» в Петрограде (1914) и других. Имел коллекцию живописи и графики. С 1907 - участник выставок (14-я выставка картин Московского товарищества художников).
К.В. Кандауров. 1900-е.
Фотография из архива К. А. Кандауровой
К. В. Кандауров в гостях у Волошина.
Член и экспонент объединений: «Бубновый валет» (1916), «Мир искусства» (1911–1917; в 1916–1917 - секретарь общества), «Жар-цвет» (1924–1928). Участвовал в выставках: современной русской живописи в Художественном бюро Н.Е. Добычиной в Петрограде (1916); 1-й и 2-й выставках картин профессионального союза художников-живописцев (обе - 1918), 1-й и 4-й выставках московского хранилища произведений современного искусства (обе - 1919), 4-й государственной выставке картин (1919), выставке в память 100-летия со дня рождения А. Н. Островского (1923), 1-й передвижной выставке живописи и графики (1929) в Москве; 1-й государственной выставке искусства и науки в Казани (1920); 1-й передвижной выставке картин по городам РСФСР (1925); выставке современного искусства в Симферополе (1927); 3-й (1927), 4-й (1928), 5-й (1929) выставках картин современных русских художников в Феодосии. Творчество представлено в ряде региональных собраний, в том числе в Государственном музее-усадьбе «Поленово», Таганрогском художественном музее.
Планета Коктебель
Максимилиан Александрович задержал меня наверху и провел к самому краю скалы в какойто прорыв между скалами, откуда внизу иглами и пиками устремлялась кверху внутренность вулкана. Вокруг были видны: в одну сторону - Меганом, Крымские горы вплоть до АйПетри, а с другой Богаевский показал мне Азовское море. Какого вида были эти узорчатые цепи и море с лежащими на нем облаками, и наши мысы, и далекие берега - невероятно.
Ю.Л. Оболенская. Из дневника 1913 года.
«Кошмарично сказочный» (А. Бенуа) Коктебель стал началом амурной истории Юлии Оболенской и Константина Кандаурова. Ландшафт, заряженный вулканической творческой силой и напитанное ею же воображение, побуждали к рифме, образу, чувству. Genius loci: фантастическая реальность и идеальная декорация, поэтическая сцена для вымыслов, романтических сюжетов, легендарных небылиц, сменявших друг друга в причудливой драматургии. И чем больше коктебельская дача превращалась в Дом поэта, примагничивая к себе новых персонажей и культурных героев, тем большее пространство обживалось, отзывалось, резонировало ему. Непринужденная повседневность дачной жизни на древней земле у жерла вулкана обретала черты эстетикогеографического феномена, природного и культурного взрыва, создававшего «крымский текст» серебряного века.
Проводы М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона в Феодосию. Коктебель.
Август 1913. Ю. Л. Оболенская - крайняя справа;
впереди нее - М. М. Нахман.
«Ехали молча, изредка переговариваясь, видели страны неописанной изумительности, базальтовое пламя, каменные ручьи, клыки тысячи фигур, замков, соборов, готических кружев, ассирийских барельефов. Слонов, египетских сфинксов и пр. - зелёные, голубые и рыжие скалы, пещеры, скалы, которые Максимилиан Александрович удачно назвал Самофракийской победой, а Лев Александрович (Бруни) застывшим ужасом - говорить о них нет сил. Проехали ворота, увенчанные орлиным гнездом и вышли на каменистый берег, замкнутый стеной Карадага с сфинксом и египетской сидящей фигурой по бокам. Полоса его так узка, что в прибой некуда деться - отвесные скалы и круг моря с полетом «ворот» - точно нет больше ничего, точно ты на другой планете».
Лето 1913 года вовлекло Оболенскую и ее подругу Магду Нахман во «взрослый» мир художников, органичный, естественный, погруженный в природную среду - без мундиров и академической иерархии. Разговоры о живописи совмещались с походами на этюды, прогулками и вечерними посиделками, поиском камушков на берегу («фернампиксов»), словесной пикировкой и вовлеченностью в общую жизнь волошинского дома. Серьезность и сдержанность привносил в него Ф.К. Богаевский, суровый романтик, извлекавший из радующего глаз пейзажа печальный облик одисеевой Киммерии. Интеллектуальноигровое поведение, перетекающее от слова к образу - «в ударах рифм и ритме вольных линий», как об этом напишет Оболенская, - от реальности к маскараду и мистификации больше было свойственно Волошину. Абсолютный позитив солнечного диска воплощал в себе Канадуров. Он умел радоваться простым вещам с какойто детской непосредственностью, и это делало мир вокруг него свежее и ярче. Улыбка, кажется, не сходила с его лица, синие глаза светились радостью:
«Как хорошо!
Как прекрасно!»
Банальность описания здесь не характеристика - краска. Таким воспринимает Кандаурова Юлия Леонидовна, да и другие мемуаристы вспоминали о нем как о человеке легком, «солнечном», располагающим к общению. Приятный собеседник и талантливый рассказчик, Константин Васильевич - человек театра с амплуа «романтического героя», а потому мелодраматические реплики, повышенный эмоциональный накал речи отчетливо проступают в его письмах многочисленными восклицательными знаками. Со всеми троими Юлия Леонидовна сумеет выстроить отношения, быть интересной в письмах, найдя свои темы и интонации, каждому, начиная с Волошина, посвятит стихи, захочет сделать портреты. Но в первое лето ее художественные опыты еще не слишком смелы, обращены к пейзажу, который завораживал и просился в слова, оставаясь на страницах дневника:
«Каждое утро работаем на самой высокой из гор-холмов, куда бесконечно трудно взбираться с вещами, но когда я попала в долину между ними и увидела сверху пейзаж, цветной как драгоценные камни, а в море, похожем на огонь сквозь зеленый бриллиант, окровавленные мысы, точно полные алой и малино-вой крови и запятнанные рыжим, я онемела. В Южном Крыму никогда не видела таких цветов, разве к вечеру и то не столько. А композиция! Вчера ходили вечером еще рисовать с Богаевским, Волошиным и Костантином Васильевичем на СююрюКая». Спустя насколько дней: «Чувствую, что начинаю уже понимать возможный подход к здешним местам. Меня очень мучила моя беспомощность. До сегодня еще не имею работ и нечего было показать Контснтину Васильевичу, но теперь что-то намечается в мыслях». Коктебельские пейзажи фигурируют в списке работ Оболенской. Один из них - «Вид на СююрюКая» - обнаружился в Русском музее. Но первой ее настоящей вещью станет «Автопортрет в красном», задуманный в Коктебеле, но законченный уже в Петербурге и затем перевезенный в Москву к Кандаурову. В отличие от портрета Цветаевой, сделанного М. Нахман в августе 1913 года, фигура там вписана в пейзаж - смуглые излоги и лукоморье обозначили его происхождение и более сложное живописное решение. Нахмановский портрет известен по репродукциям, а вот непосредственное и вполне профессиональное суждение Оболенской о нем:
«Тишайшая (коктебельское прозвище М. Нахман) тоже кончила свой портрет. Он хорош и только вялость оранжевых складок слегка огорчает меня: неизвестно, каково их значение в композиции. Меж тем, как если бы она вложила в них ясно выраженное стремление к отвесу - их роль была бы ясна. И еще ошибкой мне кажется: цвет фона слишком близок к лицу…Меня удивляет, насколько поэзия доступна живописи, какое удовлетворение дают слушателю ритм и рифма, и чем они чище, тем сильнее».
Итак, главными чертами агитационного театра кукол являются плакатный гротеск, сатиричность жанра, простота и тупость сюжетов, знаковость персонажей и ритуально-смертельный характер действия. Среди вереницы работ агитационного театра кукол того времени на общем плане выделяются «Революционный Петрушка» (1918), созданный режиссером П.И. Гутманом. Работавший на фронтах Гражданской войны, он положил начало целому направлению – Красноармейскому Петрушке. Первый спектакль Гутмана «О Деникине-хвастуне и герое-красноармейце» был показан в 1919 г. под Тулой, где шли бои между Красной армией и Белой армией генерала Деникина. Среди других пьес Гутмана, бывшего в то время одним из законодателей жанра, - «Петрушкино племя», «Петрушкина полька», «Хождение по верам» и др. В «Хождении по вере» рассказывалось о том, как Петрушка-пролетарий расспрашивает Эсэра, Анархиста, Кадета о задачах их партий. В результате все трое оказываются побитыми Петрушкиной дубинкой. В агитационных кукольных представлениях, как правило, использовались приемы, формы обрядового, религиозного театра. Иллюстрацией тому служит Межигорский революционный вертеп, (1919) созданный в Киеве. режиссером П.П. Горбенко и театр «Арлекин», созданный юными Г.М. Козинцевым, С.И. Юткевичем и А.Я. Каплером (1919).
Агитационный театр кукол особенно активно развивался в первые десятилетия после революции. Большую роль сыграла поэзия В.В. Маяковского, и тексты Д. Бедного (Е. А. Придворов) которых ставили за образец литературной и идеологической основы кукольных пьес. В 1919 г. возникли многочисленные представления на антирелигиозную тему. В 1920 г. получил распространение спектакль «Петруха и разруха», где Петрушка вместе с кукольным «народом» борется с разрухой. В 1927 г. пьесой С. Городецкого “От царя к Октябрю” открылся театр “Красный Петрушка” (“О займе”, “Бабье равноправие”, “Наша конституция”, “Политические пантомимы”, “Дорога бедняка”, “Класс против класса” и др.). Спектаклем “Зеленый змий” (1929) открылся Первый государственный передвижной театр малых форм Института санитарной культуры под руководством О.Л. Аристовой (“Сан-Петрушка”). Также известны в 20-е годы были Московский театр кукол «Кооперативный Петрушка», «Осоавиахимовский Петрушка» и др. Одновременно существовали и другие кукольные театра, не ставившие перед собой политических задач. Среди них – театр марионеток А.П. Седова («Давид и Голиаф», «Липанюшка» и др.). Куклы создавал В.А. Фаворский.
В 1917 г. в Москве открывается “Театр Петрушки” известных художников Н.Я. Симонович - Ефимовой и И.С. Ефимова. Изучив опыт народных кукольников, Ефимовы обогатили его классическим репертуаром, технически усовершенствовали сами театральные куклы. Круг их общения составляли художники В.А. Серов, В.А. Фаворским, скульптор А.С. Голубкина, ученый и философ П.А. Флоренский. Огромным успехом пользовались спектакли Ефимовых: «Басни И.А. Крылова», «Веселый Петрушка» и др. Они работали с различными системами кукол, и в каждую вносили технические и художественные коррективы. В 30-е годы в фойе драматических театров, артистических клубах они показывали сцены из "Макбета" У. Шекспира. На фоне кроваво-красного задника, над серебристыми, легкими ширмами играли куклы с широкими трагическими жестами необыкновенно длинных рук, выразительными лицами, при поворотах меняющими мимику. Интересны были и номер с Большим Петрушкой (куклой в рост человека) и кукольные интермедии Ефимовых для Н.П. Смирнова-Сокольского "Тринадцать писателей" (1934). Их семейный театр просуществовал более 20 лет, повлияв на эстетику, профессиональное мастерство не только русского, но и мирового театра кукол. В театр Ефимовых приезжали на практику десятки кукольников из многих городов СССР. Он стал первой ступенью к формированию российской кукольной школы.
Эти письма будут всегда у меня.
Пусть это будет нашей сказкой.
Рассказать «сказку», а точнее, воссоздать историю отношений двух людей, близкую и понятную им одним, – задача не из легких. Всегда остается вопрос о правомерности чтения чужих писем и дневников, даже если они, сохраненные временем, попадают в поле зрения исследователя. Проблема «вмешательства», – нарушения приватности личного пространства, – оправдываемая поисками новых свидетельств, характеристик, нюансов исторической реальности, не только чрезвычайно сложна, но и чревата опасностью мелодрамы, подробностью частного. Однако нынешнее «время рассказчиков», кажется, перестало этим смущаться. Караваны его историй и биографий стремительно заполняют нынешнее культурное пространство, возвращают вытесненное или забытое, создают новые связи и точки пересечения. В этой перекрестной циркуляции знаний, впечатлений, эмоций каждая новая история имеет право на существование.
Эпистолярное наследие Ю. Л. Оболенской и К. В. Кандаурова – огромная залежь, едва тронутый исследователями массив документов, включающий дневники, воспоминания, записи мемуарного характера, переписку с деятелями литературы и искусства первой трети XX века. Все это Юлия Леонидовна бережно хранила, систематизировала, по письмам и дневниковым записям составляла сводные подготовительные материалы для будущих жизнеописаний, полагая, что все важное и мимолетное – события, чувства, обстоятельства бытия – есть канва интереснейшей книги, которая когда-нибудь должна случиться. В начале одной из ее тетрадей есть надпись: «Материалы для истории нашей жизни с К. В. Кандауровым, которую я обещала ему написать, и мы хотели писать ее вместе (Дневники и переписка)» . Если бы такая книга состоялась, это было бы еще одно повествование о жизни в искусстве – о творческом союзе в окружении художников, поэтов – и о самом времени, в котором они кочевали из прекрасного прошлого в неведомое будущее. Центральной ее фигурой, бесспорно, стал бы Константин Васильевич, возле которого эта жизнь полнилась какой-то неистощимой и вдохновляющей силой.
Их знакомство состоялось в Коктебеле у Волошина, где в 1913 году впервые оказалась молодая петербургская художница. Для нее события этого лета определили всю «композицию» дальнейшей истории.
Встреча с Кандауровым соединила в одно любовь и искусство. Устроитель выставок, человек театральной повадки, полный планов и рассказов о театре, актерах, известных живописцах, он сразу оказался для новой знакомой увлекательным собеседником, наставником, поводырем в мир искусства, спутником в походах на этюды – туда, где цвел виноград…
Его главным «подарком» Оболенской стал Константин Богаевский, которого Кандауров боготворил и чей художественный опыт, взаимное дружеское общение и для Юлии Леонидовны оказались очень значимыми. Делая выписки из писем Кандаурова при подготовке материалов к его биографии, она не пропустила связывающую всех троих строчку: «Я все же безумно счастлив, что в жизни моей столкнулся с тобой и с Ю.Л.» .
И, конечно, ярким героем всего повествования не мог бы не быть Максимилиан Волошин, осенивший древние берега Киммерии поэтической славой. С самого начала знакомства он видел в Оболенской не только способную художницу, но и очень заинтересованно отнесся к ее литературным наклонностям. На этой грани – поэзии и художества – возникло особое дружеское притяжение, длившееся годы, отмеченное в дневниках и переписке обоих. Оболенская явно из числа тех женских романтических душ, которыми увлекался и которых увлекал поэт, – способная художница, поддающаяся соблазну рифмы во всей открытости движения навстречу… Он посвящает ей стихи, дарит книги, акварели, знакомит с Черубиной, всячески пробуждая тот самый дух свободы и творчества, настоящего искусства.
«Коктебель для всех, кто в нем жил, – вторая родина, для многих – месторождение духа», – писала Марина Цветаева. И чем больше обживалась волошинская дача, превращаясь в Дом поэта и примагничивая к себе новых персонажей, тем обширнее становилось культурное пространство, которое отзывалось, резонировало ему. Непринужденная повседневность дачной жизни на древней земле у жерла вулкана обретала черты эстетико-географического феномена, природного и культурного взрыва, создававшего «крымский текст» Серебряного века.
Оболенская – не исключение, напротив, яркое подтверждение цветаевской мысли, образным выражением которой стала самая известная ее работа – автопортрет в красном платье на фоне коктебельского пейзажа. Один из первых ее мемуарных опытов также относится именно к Волошину. В 1933 году по просьбе его вдовы, Марии Степановны, она сделала выписки из своих дневников о пребывании в Коктебеле, сопроводив их небольшим комментарием . Текст, хотя и отличается хроникальной точностью, выглядит довольно скромно, оставляя вне портретной характеристики саму мемуаристку. То ли сказалась свойственная ей сдержанность, то ли слишком тяжелы были недавние утраты и срок для воспоминаний еще не наступил. Конечно, жаль. А потому и стоит прочесть эти отношения заново, благо их письменных и рисованных «свидетелей» в архиве Оболенской предостаточно.
Что же касается дневников и переписки (около тысячи писем!) Оболенской и Кандаурова, охватывающих период с 1913 по 1930 год, то их действительно можно считать классическим эпистолярным романом, традиционной love story, развивающейся по всем канонам жанра. Судьбы героев, творческие и личные отношения представляют в этом «романе» главный сюжет, но сквозь него неизбежно просматривается картина времени, поскольку контуры и параметры частной жизни определяются импульсами, идущими извне.
Итак, стремительная завязка, начавшаяся встречей на коктебельском берегу, притяжение-отталкивание в ситуации любви на фоне законного брака, человеческая и творческая соединенность, когда домом стала совместная мастерская, а каждодневные встречи обрастали семейным бытом. И при этом – некоторая незавершенность, отдельность вблизи друг друга, что все же будет придавать этому союзу несемейный оттенок. В их отношениях всегда присутствовали макро- и микрорасстояния: сначала – между Крымом, Москвой, Петербургом, потом – между Большой Дмитровкой и Тверской, которые преодолевали письма, встречи, друзья, работа…
Но порознь – не всегда врозь, притяжение разъединенного имеет свою силу. Поэтому и разрозненный архив, как бы ни труден был в изучении, приманивал, втягивал в свою орбиту, неизвестность настраивала на поиск, и давнишнее обещание книги будто переселилось в сознание ищущего.
«Ибо не дано безнаказанно жечь чужую жизнь. Ибо – чужой жизни нет» (Марина Цветаева).
Нужное. Ненужное. Непрочитанное
С горечью думаю о начинающихся обысках. У меня ничего нет – ни продовольствия (какое там!), ни денег, ни оружия – тем более грустно, что снова перетряхнут все мои тщательно подобранные письма и бумажонки. Никому кроме меня они не нужны, но хочется их сберечь, дорожу ими, как жизнью…
Ю. Л. Оболенская. Из дневника 1920 года
С началом Великой Отечественной самые дорогие для себя письма и документы Оболенская, зашив в холстину, передаст в Государственную Третьяковскую галерею, значительная же часть архива останется дома, в мастерской на Тверской улице, которую тоже придется на время покинуть. В октябре 1941-го она попытается наскоро, хотя бы эскизно набросать очерки о близких ей людях, «свести счеты с прошлым», но в тех условиях это получалось не так, как хотелось. А смерть действительно пришла внезапно – но уже после войны, в декабре 1945-го.
Юлия Юлия родилась (3750 г., 53 см) довольно спокойной девочкой. Через 3 месяца Надя уже вышла на работу. Наняли приходящую няню, затем начали носить к бабушке, а где-то с двух лет отдали в ясли-сад, первый собственный детский комбинат ТНХК. Каких-то серьёзных заболеваний, как у
Из книги Галерея римских императриц автора Кравчук АлександрЮлия JuliaВторая жена будущего императора Тиберия, правившего в 14-37 гг.Родилась в 39 г. до н.э.В первом браке была женой Марка Агриппы.За Тиберия вышла в 12 г. до н.э., была разведена с ним во 2 г. до н.э.Умерла в изгнании в 14 г.От первого брака у нее было пятеро детей, а от брака с
Из книги Нежность автора Раззаков ФедорЮлия Домна Iulia DomnaВторая и последняя жена императора Септимия Севера, правившего в 193-211 гг.Родилась до 170 г. Вышла замуж за Севера между 185 и 187 гг.Титул августы получила в 193 г.Умерла в 217 г., покончив жизнь самоубийством.Была причислена к сонму богов как Diva Iulia Domna.В браке с
Из книги Микеланджело Буонарроти автора Фисель ЭленЮлия МЕНЬШОВА Как вспоминает сама Юлия, в школьные годы она мальчикам не нравилась. Может быть, потому, что «звездные» родители – Владимир Меньшов и Вера Алентова – воспитывали дочь в строгости: ей нельзя было приходить домой поздно, она всегда скромно одевалась. Даже
Из книги Воспоминания автора Цветаева Анастасия ИвановнаПроблемы Юлия II К сожалению, в тот момент Юлию II было трудно дать Микеланджело какие-то деньги: шла война. Вооруженное противостояние началось в январе 1511 года: «папа-солдат» предпринял попытку завоевать союзную Франции Феррару, однако кампания сложилась для него
Из книги Реальность и мечта автора Ульянов Михаил АлександровичГЛАВА 17. ВИЗИТ МАТЕРИ ТОЛИ ВИНОГРАДОВА. МАРУСЯ ТРУХАЧЕВА. У ЭФРОНОВ. ЮЛИЯ ОБОЛЕНСКАЯ. СЕНЯ ФЕЙНБЕРГ Ко мне приехала Надежда Николаевна, мать Толи Виноградова. Мы сидим с ней наверху в уголке, в бывшей детской, на диване, нам подали чай, и она все медлит заговорить о чем-то,
Из книги Сияние негаснущих звезд автора Раззаков ФедорЮлия Борисова Я уже писал об этой замечательной актрисе, но столь велико мое восхищение ее талантом, что хочу еще раз вспомнить о ее работе в Театре имени Вахтангова.Ее незаурядное дарование заметил Рубен Симонов, когда она была еще студенткой второго курса. Он тогда
Из книги Франц Кафка автора Давид КлодДРУНИНА Юлия ДРУНИНА Юлия (поэтесса; покончила с собой 21 ноября 1991 года на 67-м году жизни). Талантливая поэтесса, фронтовичка Юлия Друнина закрылась в своем гараже в поселке Советский Писатель Подольского района и задохнулась от выхлопных газов собственных «Жигулей». В
Из книги Моя жизнь и люди, которых я знал автора Чегодаев Андрей ДмитриевичXV Юлия «Безумные, мы пьем прах и душим своего отца». Цюрау не рай. На деревенской площади обосновался какой-то жестянщик, и удары его молотка разрывают барабанные перепонки. Вдобавок к этому заблудившееся в этом затерянном уголке Богемии пианино усиливает мучения. Гуси и
Из книги Чайковский. Старое и новое автора Никитин Борис СеменовичЮлия Юлия Николаевна - мать А.Ч. Ее судьба. Жизнь в Саратове. Переезд в Москву. Последние дни Юлии Николаевны в Самарканде Начну с рассказа о матери: ее жизнь была много более короткой и не такой сложной, как у моего отца.Мою мать звали Юлия Николаевна. Отец долго, со дня их
Из книги Креативы Старого Семёна автора Из книги Самые пикантные истории и фантазии знаменитостей. Часть 1 автора Амиллс РосерЮлия Сергеевна Заведовала всем хозяйством Юлия Сергеевна Балясная. Было ей лет под семьдесят. А может, и больше. До пенсии она преподавала математику в школе. К ней относились с симпатией, но обходили стороной. Иначе Юлия Сергеевна начинала говорить, и несчастный, вместо
Из книги Василий Аксенов - одинокий бегун на длинные дистанции автора Есипов Виктор МихайловичЮлия Старшая Римская распутницаЮ?лия Старшая (39 до н. э. – 14 н. э.) – дочь Октавиана Августа, римского императора из рода Юлиев-Клавдиев, его единственный родной ребенок, рожденный от брака со Скрибонией.Как рассказывает Сенека, дочь императора в 14 лет была обязана
Из книги Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии автора Алмазов Борис АлександровичЛюдмила Оболенская-Флам О встрече с Аксеновым Cегодня трудно даже представить себе, какой была Москва 1976 года в застойное брежневское время - столица полицейского государства с его бедным населением и бессмысленными лозунгами, украшавшими фасады домов. На фоне этой
Оболенская Ю. Л. Переводческая мысль в Испании ХII – ХVIII веков
Ю. Л. Оболенская
Переводческая мысль в Испании ХII , признавая былую славу испанских Школ Переводчиков ХI оригинальности концепции Вивеса. А Х. С. Сантойо во вступительной статье к вышеупомянутой антологии четко обозначил свою позицию, озаглавив раздел, посвященный месту Испании в европейской истории перевода и переводоведческой традиции "Испанская lsquo;традицияrsquo;".) развития европейской переводческой традиции. Апогей деятельности этих центров перевода, ставших одновременно центрами распространения передовых научных знаний, приходится на ХIII век. Известны факты и документы, подтверждающие новаторский характер теоретической базы поистине беспрецедентной переводческой деятельности на полуострове. Подтверждением этому может служить цитата из письма 1199 года еврейского философа и переводчика Маймонида (родившегося в Кордове и эмигрировавшего в северную Африку), адресованного переводчику его книги "Наставник заблудших":) придется изрядно потрудиться, в итоге получив перевод неверный и путаный. Этот путь неверен. Переводчик должен, прежде всего, прояснить ход мысли, затем выразить и растолковать ее таким образом, чтобы мысль эта была ясна и понятна на другом языке. Достичь этого порой можно лишь изменяя все предшествующее или следующее за словом, переводя одно слово несколькими или несколько тех самых вечных проблем перевода, о которых в Европе начнут спорить лишь столетие спустя. Оригинальные суждения испанских просветителей, таких, например, как А. де Капмани, Х. Кадальсо и Х. Гарсиа Мало, о переводе и по сей день не утратили своей актуальности.) немецкой, русской, североамериканской и французской, ошибочно полагая, что до середины ХХ века национальной переводческой школы и сложившейся переводческой традиции просто не существовало. Большинство испанских филологов в исследованиях, посвященных проблемам теории и истории перевода, сетуют на отсутствие национальной переводоведческой традиции и переводческой школы либо подчеркивают ее несамостоятельный характер, отмечая неразрывную связь испанской переводческой практики на ранних ее этапах с античной традицией, ее следование постулатам итальянских переводчиков и литераторов в эпоху Возрождения, а затем, вплоть до начала ХХ века и культуры. Именно таким мостом между двумя мирами традицию переводческой деятельности, отраженную как в самой истории переводов, так и в развитии переводческой мысли.) завоевание приводит к необходимости переводов с арабского на латынь и с латыни на арабский.), иудейская и христианская (европейская). Диалог (а точнее, триалог) между ними и более активное взаимопроникновение могли быть возможны при условии признания одного из трех языков: вульгарной латыни (позднее, еврейского или арабского средством межнационального общения, однако этого не произошло. Мудрые арабы, избегая насильственной арабизации населения, прибегают к эффективному и вполне современному способу внедрения достижений своей национальной культуры и науки в инокультурную среду: они создают центры перевода, так называемые Школы переводчиков.) перевод: когда арабский текст переводился переводчиком евреем на староиспанский, а переводчик христианин делал с него перевод на латынь. В Толедской школе переводчиков этот способ, пришедший из Багдада, обеспечивался работой творческих объединений с постоянным составом: так, кастильский христианин Гундисальво работал в паре с мусульманином Ибн Даудом, а Жерар Кремонский с Гальби.
Школы переводчиков изначально были интернациональны; в ХI и иноземцы, приехавшие в Испанию из Европы, тексты с арабского на староиспанский, а затем на латынь, и теологические и философские тексты с греческого на арабский.
Особое значение в ХIII веке приобретает созданная в 1130 году Толедская школа. Ее деятельность достигает апогея в середине ХIII века, когда ею руководят епископ Раймундо Бургундский и король Альфонс Х Мудрый, по инициативе которого предпринимается известный перевод Библии на староиспанский (roma), получивший название Библия Альфонсина. Во-многом благодаря деятельности школ перевода Альфонсу Мудрому удалось осуществить достаточно амбициозные планы постулатов античности, сформулированных Цицероном, Квинтилианом и Св. Иеронимом, с идеями мусульманского авторитета 3
Характерная черта прологов к испанских переводам ХIV"Илиады", выполненному Хуаном де Меной в 1438 г., где переводчик весьма точно и поэтично определяет причину недостатков двойного искажения оригинала
Не менее важны замечания Альфонсо де Картахены об особенностях подхода к переводу текстов различных жанров и художественных (de arte liberal). В своем введении к переводу "Риторики" Цицерона (1436) Картахена подчеркивает, что без глубокого знания описываемого в оригинале предмета переводчик обречен на неудачу. (А. P. 34) к родному языку в ту пору еще резко отличалось от возрожденческой традиции защиты и прославления, поэтому и Хуан де Мена, и Педро Гонсалес де Мендоса в прологах к своим переводам Гомера, выполненным в 30-е годы ХV века, сетуют на несовершенство, "грубость" и поэтическую бедность кастильского в сравнении с греческим. Лишь сто лет спустя, в 1533 г., Дьего Грасиан, посвящая императору свой перевод Плутарха, говоря о недостатках своего перевода (кое-где он добавил разъяснения и "лишние" слова), все же воздает должное достоинствам кастильского:
Quise traduzirlos del Griego porq la traduciotilde; fuesse mas uerdadera: como porque la propiedad y ma)
Эпоха Возрождения создает новый социо-культурный контекст, который наряду с техническими достижениями и, в частности, распространением книгопечатания вызывает необходимость пересмотра критериев переводческого труда, заложенных античной классической традицией. В Испании эпоха Возрождения знаменует не только наступление Золотого Века литературы, но и зарождение европейской переводческой традиции нового времени, которое современные теоретики и историки перевода обычно связывают с немецким романтизмом и относят лишь к ХIХ веку.) и литературы новыми формами и художественными тропами. Переводчики перестают ощущать себя скромными копиистами оригинальных текстов и в своих переводах более или менее осознано нарушают правила, установленные ранее непререкаемыми авторитетами античности, критикуя скверные переводы, замечает, что:
He miedo que seguacute;)
Диего Грасиана, пожалуй, можно считать первым серьезным критиком испанских непрямых переводов классических произведений. Вот что он пишет в 1548 г. в предисловии к изданию своего собственного перевода Плутарха по поводу удручающего качества уже существующих переводов:
Испанские переводчики тех лет почти единодушны в своем отношении к заимствованиям, а их позиция, кстати, вполне современная, наиболее полно и аргументированно изложена Педро Симоном де Абрилем в предисловии к его переводу аристотелевской "Этики" (1580). Здесь приводятся многочисленные примеры калек и заимствований из греческого, часть из которых уже вошла в узус, а право на существование в родном языке некоторых новых, таких, например, как Aristocracia, Mo).
Но даже среди этой блистательной когорты ренессансных литераторов особо выделяются два испанских гуманиста и трактат Э. Доле "О способе хорошо переводить с одного языка на другой" (1540) , "О дисциплинах" (De discipli), и, прежде всего, объемный труд 1532 г. "Об основах красноречия" (De ratio), который, по отзывам современников, пользовался особым успехом; а в 1533 г. эта книга была издана по крайней мере дважды перевода, в отличие от двух классических, предложенных и обоснованных еще Цицероном (а позднее несколько упрощенно истолкованных св. Иеронимом): дословный перевод и перевод, основанный на стремлении отразить "совокупность смысла и силу слов".
Описывая методы перевода, Вивес соотносит их с жанрами переводных текстов, выделяя следующие типы:
1) переводы, ориентированные на сохранение смысла (se) оригинала;
2) переводы, ориентированные на сохранение формы оригинала (phrasis et dicto);
3) переводы, в которых одинаково важно сохранение и содержания и формы (et res et verba).
Для Вивеса лучший перевод, (той самой, что сто лет спустя вдохновила Ортегу и Гассета на написание его статьи "Нищета и блеск перевода"), которую западные исследователи считают началом современной науки о переводе, затронутые Вивесом проблемы трактуются гораздо уже. Анализируя практически одни и те же типы переводных текстов, авторы приходят к разным выводам: Шлейермахер для передачи в переводе "духа" (т. е. стиля оригинала предлагает копировать его языковые особенности, не боясь нарушить нормы родного языка. Вивес при переводе художественных текстов отдает предпочтение описанному им третьему типу перевода, выдвигая при этом сразу несколько фундаментальных положений:
Los tropos y las figuras y los resta)
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Шрифт:
100% +
Лариса Константиновна Алексеева
Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров
© Л. К. Алексеева, 2017
© И. Н. Толстой, предисловие, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Под сенью кукол
Я родился под картиной Юлии Оболенской. Не то чтобы других полотен в доме не было – были, всякого рода и разных эпох. Но под ними уже жили мои многочисленные сестры и братья.
На холсте Оболенской были нарисованы стоящие на комоде в ряд пять кукол в чепцах и старинных одеждах: судя по костюмам и выражениям лиц, мать с дочерьми и скромно одетой няней. Воскресный, скажем, выезд в гости к родне. Или типажи крепостного театра, а может, игрушки девочки из состоятельной семьи. Мне они казались персонажами какой-то истории из времен Сухово-Кобылина: так, должно быть, одевались героини его недобрых комедий или соседи убиенной Луизы Симон-Деманш.
Кто нарисовал этих кукол, я долго не знал, а спросить взрослых не приходило в голову, пока однажды, подростком, протирая пыль, я не обнаружил некрупную подпись: «Ю. Обол.».
И отец рассказал мне то немногое, что помнил из семейных историй о Юлии Леонидовне и Константине Васильевиче.
Счастливый читатель предлагаемой переписки узнает стократно больше – и об этой драматической любви, и о перипетиях взаимоотношений поэтов, писателей и художников Серебряного века и его эха 1920-х годов. Книга до краев наполнена интереснейшими и впервые вводимыми в культурный оборот фактами и деталями. Мне же остается сказать о связях нашей семьи с героями книги и об одном странном тематическом контрапункте.
Куклы на старом холсте были в нашей квартире вовсе не случайны. Знакомство Алексея Толстого с Оболенской произошло в известной петербургской художественной школе Званцевой, располагавшейся в том же доме на Таврической, где этажом выше была знаменитая квартира Вячеслава Иванова. Гости ивановской «башни» то и дело спускались вниз к рисовальщикам, те после занятий поднимались наверх. Юлия Оболенская брала уроки в одном классе с тогдашней женой Толстого Софьей Дымшиц, и вполне возможно, что куклы были написаны в качестве ученического натюрморта, и, может быть, не только Юлией Леонидовной.
Второй раунд общения Толстого и Оболенской пришелся на лето 1914 года, когда они встретились в Коктебеле в доме Максимилиана Волошина – том самом доме, который Толстой считал для себя вторым родным, настолько он полюбил своего старшего друга и учителя. Здесь же в Коктебеле Толстой успел подружиться и с Константином Кандауровым, так что плацдарм для развития отношений был солидным.
Алексей Толстой в те месяцы находился в кризисе: он в пух и прах разругался с литературным Петербургом (в чем в значительной мере был виноват сам), его брак с Софьей Дымшиц разваливался, поездка в Коктебель виделась ему спасительной передышкой, украшенной к тому же новыми знакомствами, разговорами и сюжетами.
Мой отец ничего не знал о флирте деда с Юлией Леонидовной, – во всяком случае, я узнаю об этом только из «Цвета винограда», но о долгой и мучительной влюбленности Алексея Николаевича в Маргариту Кандаурову – балерину, племянницу Константина Васильевича – я знал с юных лет, как и о том, что Маргарита Павловна Кандаурова, прими звезды несколько иное расположение на сердечном небосводе, могла бы стать моей бабушкой. Гименей, любитель анаграмм, подобрал мне в бабушки похожую – Крандиевскую (к-а-н-д-р-в).
Куклы над колыбелью между тем помнили свой культурный широкий контекст. Серебряный век был кукольностью напоен – как будто во всех искусствах и жанрах все повально пожелали отметиться своими «Детскими альбомами». Но в отличие от Чайковского, искусство Серебряного века все чаще видело в ребенке не беспечное дитя, а переполненного страстями переодетого взрослого, пребывающего на переходной стадии между человеком и куклой. Отсюда стилизованные герои сомовских полотен из якобы XVIII века, от этого невероятная мода на собирание всего этнографического и подлинного, попытки инициировать увядающую «народность» (Талашкино), фольклорное направление в одежде (смазные сапоги, стиль «рюсс», горьковско-клюевско-есенинские косоворотки), в названиях книгоиздательских серий и марок («Сирин», «Алконост», «Гамаюн»), включая оформление карточных колод. И не случайно одна из самых воспетых красавиц Петербурга – «козлоногая» героиня ахматовской поэмы Ольга Глебова-Судейкина – подрабатывала изготовлением кукол.
Те же идеи возникали и на театральных подмостках. В 1908 году Алексей Толстой написал одну из первых своих пьес – «Дочь колдуна и заколдованный королевич», где куклы фигурировали наравне с живыми людьми. Вещь была написана для театрального кабаре Всеволода Мейерхольда. Она примечательна как прообраз или протоплазма будущей сказки «Золотой ключик». Одна деталь там поразительна: кукольный мастер на сцене (условный Папа Карло) расставляет декорации и заботливо рассаживает кукол, а затем вдруг вынимает из кармана длинную бороду с завязками и превращается в злого колдуна – будущего Карабаса-Барабаса. Добрый и он же злой отец – конфликт вполне во фрейдовском духе.
Правы, разумеется, те читатели «Буратино», кто догадывается о подлинных корнях сказки: деревянная кукла Карло Коллоди стала для Алексея Толстого лишь поводом свести счеты с обидчиками из гордого и высокомерного Петербурга его молодости. «Золотой ключик» – это в значительной степени автобиография, развернутая своими страстями в эпоху первых театральных опытов, современных ученичеству Юлии Оболенской.
Не удивительно поэтому, что на ленинградском издании «Хождения по мукам» 1925 года (не государственном, а частном, авторском) Алексей Толстой просил всеобщего приятеля художника Вениамина Белкина изобразить двух героинь романа – Катю и Дашу. Шутник Белкин вывел два отчетливо узнаваемых профиля – Ахматовой и Глебовой-Судейкиной.
Не могу с уверенностью сказать, кто в нашей семье поддерживал кукольную предрасположенность, – может быть, профессиональное пуппенмейстерство Любови Васильевны Шапориной, многолетнего друга, соседки по Детскому Селу и жены композитора Шапорина, или что-то другое, но мой отец в 1963 году привез из Японии самый странный для советского командированного подарок: изысканную куклу в парадном кимоно с белым, как мел, лицом. Ничего уже полвека спустя не осталось от тех островных гостинцев, а кукла – и сейчас как новая.
А может быть, все эти годы в душе моих родителей звучала отчетливо кукольная нота портретов Николая Павловича Акимова – величайшего сказочника-сатирика, не упустившего ни одного случая сообщить своим моделям – уголком рта, ямочкой на щеке, бликом глазного яблока – тайную насмешку над бренностью бытия. Моя покойная сестра Екатерина у Акимова училась, – не буду оценивать успешность выучки, важно, что ирония и сатира вошли в ее артистическую мысль и остались и в многочисленных портретах, и в немногих тщательно выделанных куклах (главным образом – бабах на чайник).
Мальчик, бывавший в Коктебеле 60-х, живший в доме Волошина, помнящий босыми ногами горячие половики июльской мастерской и ходивший «всей компанией» через Карадаг в какую-то далекую деревушку (как ходили многие поколения предшественников), читает переписку Юлии Оболенской и Константина Кандаурова особыми – ностальгическими – глазами. Узоры прапамяти, запечатленные на этих страницах, волнуют и бередят пусть и не свои, но родственные воспоминания.
Впрочем, почему не свои? Что делать с таким вот неожиданным узором? Почти тридцать лет назад я искал в Париже крышу над головой, и меня свели с одной француженкой, которая открыла для меня давно пустовавшую крохотную квартирку, состоявшую из единственной комнаты и кухни, умещавшейся в угловом стенном шкафу. Квартира была в точности из притчи «Много ли человеку земли нужно».
Уходя, мадам сказала:
– Я поселяю вас здесь потому, что вы русский. Я никого сюда не пускаю. До вас я много лет назад сдавала тоже одной русской. У нее под конец жизни совершенно не было денег, и она со мной за жилье расплачивалась куклами. Она скончалась в этой квартире. Несколько кукол я сохранила с тех пор.
– Простите, а как ее звали?
– Ольга Глебова-Судейкина.
Иван Толстой
Замысел
Обещание книги
Эти письма будут всегда у меня.
Пусть это будет нашей сказкой.
Рассказать «сказку», а точнее, воссоздать историю отношений двух людей, близкую и понятную им одним, – задача не из легких. Всегда остается вопрос о правомерности чтения чужих писем и дневников, даже если они, сохраненные временем, попадают в поле зрения исследователя. Проблема «вмешательства», – нарушения приватности личного пространства, – оправдываемая поисками новых свидетельств, характеристик, нюансов исторической реальности, не только чрезвычайно сложна, но и чревата опасностью мелодрамы, подробностью частного. Однако нынешнее «время рассказчиков», кажется, перестало этим смущаться. Караваны его историй и биографий стремительно заполняют нынешнее культурное пространство, возвращают вытесненное или забытое, создают новые связи и точки пересечения. В этой перекрестной циркуляции знаний, впечатлений, эмоций каждая новая история имеет право на существование.
Эпистолярное наследие Ю. Л. Оболенской и К. В. Кандаурова – огромная залежь, едва тронутый исследователями массив документов, включающий дневники, воспоминания, записи мемуарного характера, переписку с деятелями литературы и искусства первой трети XX века. Все это Юлия Леонидовна бережно хранила, систематизировала, по письмам и дневниковым записям составляла сводные подготовительные материалы для будущих жизнеописаний, полагая, что все важное и мимолетное – события, чувства, обстоятельства бытия – есть канва интереснейшей книги, которая когда-нибудь должна случиться. В начале одной из ее тетрадей есть надпись: «Материалы для истории нашей жизни с К. В. Кандауровым, которую я обещала ему написать, и мы хотели писать ее вместе (Дневники и переписка)»1
ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 1396. Л. 2 об.
Если бы такая книга состоялась, это было бы еще одно повествование о жизни в искусстве – о творческом союзе в окружении художников, поэтов – и о самом времени, в котором они кочевали из прекрасного прошлого в неведомое будущее. Центральной ее фигурой, бесспорно, стал бы Константин Васильевич, возле которого эта жизнь полнилась какой-то неистощимой и вдохновляющей силой.
Их знакомство состоялось в Коктебеле у Волошина, где в 1913 году впервые оказалась молодая петербургская художница. Для нее события этого лета определили всю «композицию» дальнейшей истории.
Встреча с Кандауровым соединила в одно любовь и искусство. Устроитель выставок, человек театральной повадки, полный планов и рассказов о театре, актерах, известных живописцах, он сразу оказался для новой знакомой увлекательным собеседником, наставником, поводырем в мир искусства, спутником в походах на этюды – туда, где цвел виноград…
Его главным «подарком» Оболенской стал Константин Богаевский, которого Кандауров боготворил и чей художественный опыт, взаимное дружеское общение и для Юлии Леонидовны оказались очень значимыми. Делая выписки из писем Кандаурова при подготовке материалов к его биографии, она не пропустила связывающую всех троих строчку: «Я все же безумно счастлив, что в жизни моей столкнулся с тобой и с Ю.Л.»2
Там же. Ед. хр. 1395. Л. 60 об.
И, конечно, ярким героем всего повествования не мог бы не быть Максимилиан Волошин, осенивший древние берега Киммерии поэтической славой. С самого начала знакомства он видел в Оболенской не только способную художницу, но и очень заинтересованно отнесся к ее литературным наклонностям. На этой грани – поэзии и художества – возникло особое дружеское притяжение, длившееся годы, отмеченное в дневниках и переписке обоих. Оболенская явно из числа тех женских романтических душ, которыми увлекался и которых увлекал поэт, – способная художница, поддающаяся соблазну рифмы во всей открытости движения навстречу… Он посвящает ей стихи, дарит книги, акварели, знакомит с Черубиной, всячески пробуждая тот самый дух свободы и творчества, настоящего искусства.
«Коктебель для всех, кто в нем жил, – вторая родина, для многих – месторождение духа», – писала Марина Цветаева. И чем больше обживалась волошинская дача, превращаясь в Дом поэта и примагничивая к себе новых персонажей, тем обширнее становилось культурное пространство, которое отзывалось, резонировало ему. Непринужденная повседневность дачной жизни на древней земле у жерла вулкана обретала черты эстетико-географического феномена, природного и культурного взрыва, создававшего «крымский текст» Серебряного века.
Оболенская – не исключение, напротив, яркое подтверждение цветаевской мысли, образным выражением которой стала самая известная ее работа – автопортрет в красном платье на фоне коктебельского пейзажа. Один из первых ее мемуарных опытов также относится именно к Волошину. В 1933 году по просьбе его вдовы, Марии Степановны, она сделала выписки из своих дневников о пребывании в Коктебеле, сопроводив их небольшим комментарием3
См.: Оболенская Ю. Л.
Из дневника 1913 года // Воспоминания о Максимилиане Волошине / Сост. и коммент. В. П. Купченко и З. Д. Давыдова. М., 1990. С. 302–310.
Текст, хотя и отличается хроникальной точностью, выглядит довольно скромно, оставляя вне портретной характеристики саму мемуаристку. То ли сказалась свойственная ей сдержанность, то ли слишком тяжелы были недавние утраты и срок для воспоминаний еще не наступил. Конечно, жаль. А потому и стоит прочесть эти отношения заново, благо их письменных и рисованных «свидетелей» в архиве Оболенской предостаточно.
Что же касается дневников и переписки (около тысячи писем!) Оболенской и Кандаурова, охватывающих период с 1913 по 1930 год, то их действительно можно считать классическим эпистолярным романом, традиционной love story, развивающейся по всем канонам жанра. Судьбы героев, творческие и личные отношения представляют в этом «романе» главный сюжет, но сквозь него неизбежно просматривается картина времени, поскольку контуры и параметры частной жизни определяются импульсами, идущими извне.
Итак, стремительная завязка, начавшаяся встречей на коктебельском берегу, притяжение-отталкивание в ситуации любви на фоне законного брака, человеческая и творческая соединенность, когда домом стала совместная мастерская, а каждодневные встречи обрастали семейным бытом. И при этом – некоторая незавершенность, отдельность вблизи друг друга, что все же будет придавать этому союзу несемейный оттенок. В их отношениях всегда присутствовали макро– и микрорасстояния: сначала – между Крымом, Москвой, Петербургом, потом – между Большой Дмитровкой и Тверской, которые преодолевали письма, встречи, друзья, работа…
Но порознь – не всегда врозь, притяжение разъединенного имеет свою силу. Поэтому и разрозненный архив, как бы ни труден был в изучении, приманивал, втягивал в свою орбиту, неизвестность настраивала на поиск, и давнишнее обещание книги будто переселилось в сознание ищущего.
«Ибо не дано безнаказанно жечь чужую жизнь. Ибо – чужой жизни нет» (Марина Цветаева).
Нужное. Ненужное. Непрочитанное
С горечью думаю о начинающихся обысках. У меня ничего нет – ни продовольствия (какое там!), ни денег, ни оружия – тем более грустно, что снова перетряхнут все мои тщательно подобранные письма и бумажонки. Никому кроме меня они не нужны, но хочется их сберечь, дорожу ими, как жизнью…
Ю. Л. Оболенская. Из дневника 1920 года
С началом Великой Отечественной самые дорогие для себя письма и документы Оболенская, зашив в холстину, передаст в Государственную Третьяковскую галерею, значительная же часть архива останется дома, в мастерской на Тверской улице, которую тоже придется на время покинуть. В октябре 1941-го она попытается наскоро, хотя бы эскизно набросать очерки о близких ей людях, «свести счеты с прошлым», но в тех условиях это получалось не так, как хотелось. А смерть действительно пришла внезапно – но уже после войны, в декабре 1945-го.
В Государственный литературный музей (ГЛМ) выморочное имущество Оболенской поступило по акту нотариальной конторы. Словосочетание «выморочное имущество» всегда звучит пронзительно и трагично, передавая пустоту за гробом или наказание беспамятством, когда оставшиеся фрагменты земного существования никому не нужны. А здесь за этим стоял человек, который всю свою сознательную жизнь противостоял небытию, записывая, фиксируя труды, дни и события своей и чужих жизней, переводя их в слова и образы. Впрочем, обожженное войной время слишком сурово, чтобы быть пристально внимательным к судьбам, а тем более к их архивным остаткам. И то благо, что уцелели.
В ГЛМ огромный корпус документальных, печатных и изобразительных материалов обрабатывался и записывался два года, а в конце пятидесятых – начале шестидесятых было произведено его значительное списание и перемещение. Для не имеющего площадей музея выморочное имущество художницы оказалось слишком велико, было отнесено к «непрофильным», и им распорядились достаточно вольно. В результате часть документального собрания пополнила фонд Оболенской в рукописном отделе Третьяковской галереи (как того изначально хотела сама художница), другая перекочевала в Центральный государственный архив литературы и искусства (ныне – РГАЛИ), что-то было списано по состоянию сохранности и прочим формальным «объективным» причинам. Так весь архив – а это одиннадцать тетрадей дневников и записных книжек, около двух тысяч писем, фотографии, рисунки, книги – оказался рассредоточенным по трем известным московским хранилищам. Кроме того, материалы художников отложились в крымских собраниях, в частности в Феодосийской художественной галерее и Доме-музее Волошина, сама же обширная переписка Юлии Леонидовны и Максимилиана Александровича попала в Пушкинский Дом.
Разрозненность документального массива привела к тому, что в нарративе Серебряного века имена Оболенской и Кандаурова присутствуют лишь эпизодически, маргинально – в скромных упоминаниях, комментариях, сносках. Порой поверхностных и с повторяющимися ошибками, поскольку их собственная «личная история» оставалась все это время непрочитанной.
Еще сложнее с художественным наследием, о котором и вовсе известно немного. В запасниках ГЛМ и ГТГ хранится лишь небольшое количество графики художников, автопортрет Оболенской в красном платье (1918) находится в Астраханской художественной галерее, живописный «Коктебель. Гора Сююрю-Кая» (1913) – в Русском музее, другой крымский пейзаж (1917) – в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, «Слепые» (до 1925) – в Художественном музее Ярославля, несколько работ – в частных руках и коллекциях.
Но если верить в то, что рукописи не горят, а замыслы способны прорастать сквозь время, то бесследное исчезновение картин еще менее вероятно. А значит, открытие Оболенской-художника непременно состоится.
«Deus conservat omnia»4
Бог сохраняет всё (лат
.).
Художник пишущий
…Часто есть потребность излить себя в чем-нибудь: какая-нибудь радость, тревога, ожидание, впечатление мимолетное. Нельзя для всей этой бегущей жизни успевать писать большие вещи, да и не вмещается она в них…
Случай Оболенской исключителен уже тем, что мемуарист, свидетель и современник действительно заслоняет собой живописца. Юлия Леонидовна принадлежит к редкой категории художников – пишущих и рифмующих, т. е. литературно одаренных. Широкий круг общения и свободное владение словом и пером (в дневнике – часто карандашом), привычка к фиксации мельчайших событий и подробностей жизни в письме, дневниковой записи, записной книжке, собственно, и создали тот колоссальный массив документов, который предстояло освоить как нечто целое, обозначив его контуры и внутренние связи. И то, что он насквозь пропитан «живой водой» чувств, не утративших своей силы, только придавали ему привлекательности. Если бы не люди – увлекала бы нас история?
Вместе с тем эпистолярий Оболенской – это «визуальный» текст, со всеми уникальными для подобного текста характеристиками. Ее записи аналогичны рисункам, наброскам, когда вместо имен мелькают инициалы, мысли проброшены вскользь, фразы доведены до намека самой себе, и чтобы их прочесть, нужна привычка к условному языку и беглому почерку. Но в этой рисуночной манере – цепкий взгляд художника, для которого деталь, подробность, мелочь важнее иного. Для начала – примеры из дневника 1919 года, запись от 28 февраля:
«К. принес снимки, делал новые отпеч<атки>, а я пис<ала> п<ортре>т. Он еще принес молока и 2 картоф<елины> и 1 лук, стряпал, и мы ели и пили молоко. Был пир на весь мир»5
ГЛМ РО. Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 19–19 об.
Три фразы – и полноценный сюжет, кажущийся знакомым по работам Петрова-Водкина или Штеренберга.
«Веч<ером> доклад Белого. Ковыляли по ужасной дороге посреди улицы гуськом по ледяным выступам (между бывшими прежде рельсами) по бокам – озера. Пост<оянно> провалив<ались> ноги. Трот<уар> непроход<им> ‹…› АБ. чит<ал> пути культ<уры> – история становления «я» – родовые, личные и коллективные (как теперь) голубиные шаги внутри нас и гроза снаружи»6
ГЛМ РО. Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 24–24 об.
И опять, эскизно – содержание доклада, но внимательно и пристально – дорога по ледяным выступам, которая и становится образом «путей культуры», о которых говорил Андрей Белый. «Мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром» (Ф. Ницше).
По коктебельскому дневнику 1913 года можно проследить количество солнечных, пасмурных или дождливых дней, встретить описания пейзажей в разное время суток, порой крыло птицы или цветок винограда привлекают внимание автора не меньше, чем разговоры об искусстве или стихах. Иначе говоря, описательность, подробность, цветовое наполнение текста – своеобразие мемуаристики Оболенской. Она пропускает содержание через глаз, вербализует образ, который для нее как для художника самодостаточен в передаче смысла.
И больше. Впечатление, попавшее в тетрадь, запоминается ярче и оказывается способным превращаться в самостоятельный образ, знак последующих событий, проникать в живопись. В записи первых дней памятного коктебельского лета читаем: «Возвращаясь, прошли через 2-й источник, заросший зеленью. Тенистый оазис, где пахло южным Крымом. Я открыла, что это пахли цветы винограда, и нарвала их. Тонкий благородный, но пьянящий аромат его лучше всяких роз. Он волнует какой-то необычайной мечтой. В нем не то вся душа моя, не то все то, что ей не хватает. Мы опьянели от радости, срывая и неся эти веточки. Было тепло, море синее, земля легка под ногами, лица горели от ветра, и кружил вокруг сказочный аромат цветущего винограда»7
Там же. Ед. хр. 1. Лл. 2 об. – 3.
«Цвет винограда» – ощущение необычайного, предчувствие счастья – станет названием одной из картин Оболенской и символом ниспосланной любви, воспринятой как чудо. Иначе и быть не могло, поскольку речь шла о виноградной лозе со всем присущим ей многообразием метафор.